ИТАЛЬЯНКА ИЗ БЕНСОНХЕРСТА
Марат БАСКИН
 Марат Баскин
Марат Баскин
 Рисунок Натальи ТАРАСКИНОЙ
Рисунок Натальи ТАРАСКИНОЙ
 Рисунок Натальи ТАРАСКИНОЙ
Рисунок Натальи ТАРАСКИНОЙ
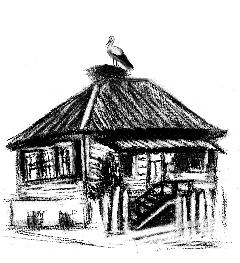 Рисунок Натальи ТАРАСКИНОЙ
Рисунок Натальи ТАРАСКИНОЙ
«Марат Баскин тяжело и много работает, ему до пенсии служить, как
медному чайнику, он может писать только по ночам, отрывая их от отдыха», –
написал его друг журналист Владимир Левин, тоже живущий в Нью-Йорке. Но, читая повести
и рассказы Марата Баскина, не чувствуется напряжение. Ощутима сопричастность
автора к своим героям, его переживания о состоявшихся и несостоявшихся
судьбах, любовь к белорусскому местечку
Краснополье, в котором он вырос.
А все в душе восторг и боль,
И все-то вспоминается...
И. Бунин
Песнi мае, песнi!
Смуткаў маiх дзецi!
Янка Купала
Когда я была маленькой, я всегда говорила
маме:
–
Я всю жизнь буду жить с вами, с тобой и папой, в Краснополье. Никогда не выйду
замуж и никогда никуда не поеду!
Мама
смеялась и говорила:
–
Тохторке, а нодул трахт ун а шнайдер
махт! (Доченька, иголка думает, а портной делает! – идиш) Я, конечно, не
знаю, какая у тебя будет жизнь, но я не хочу, чтобы ты всю жизнь сидела при
мне: дай Бог, надумаешь выходить замуж, у тебя будет а гутэр хосун (хороший жених – идиш), и, может быть,
ты с ним в город переедешь! Я всю жизнь мечтала увидеть мир, а всю жизнь
прожила здесь: может, тебе суждено что-то лучшее!
И
вы знаете, мистер Баскин, как будто мама в воду глядела: и весь мир я обошла, и
хорошего жениха нашла, только не дай Бог такой дороги моим детям!
Я
не знаю, что сказала бы мама, увидев меня сейчас, и гадать на этот счет не
буду. Разные вышли у нас жизни! А у разных жизней разное понятие о счастье.
Сейчас меня зовут сеньора Розалия, а раньше я была просто
Роза, дочка Аврома-шнайдера. (Аврома-портного – идиш) Все это было
так давно, что иногда я думаю, а было ли все это?! От той поры у меня не
осталось даже маленькой безделушки, как будто я родилась сразу взрослой и голой
пришла в этот мир, как ребенок.
Но
в отличие от ребенка, я помню свой первый крик: на дороге между Краснопольем и
Чериковым нас, последних евреев, бегущих из Краснополья, разбомбили, и самолет,
на бреющем полете прижимаясь к дороге, расстреливал оставшихся живых после
бомбежки, а я, стоя во весь рост над погибшими родителями, кричала и рождалась
вновь! И пули не тронули меня! Не знаю почему. Может, я и вправду живучая, как
говорил Микеле.
–
Все твои погибли и, может быть, Бог дал тебе живучесть, чтобы твой род
продолжился, – как-то сказал он.
И
я вам скажу, мистер Баскин, ничем иным не объяснить мою судьбу...
С
той страшной дороги я вернулась назад в Краснополье и, наверное, закончила бы
свою жизнь во рву, за Краснопольем, если бы не моя великая живучесть. За день
до расстрела евреев я мыла полы в немецкой комендатуре, и старый немец, который
всегда дежурил, когда я убирала, вдруг заговорил со мной:
–
Ду фарштейст дойч? – спросил он.
(Ты понимаешь по-немецки – немецкий)
– Да, – вся дрожа, сказала я.
–
Беги, дочка, – сказал он. – Завтра всех ваших расстреляют, – и, боясь, что я
его не пойму, добавил: – Пиф-паф! Всех убьют! Беги!
И
я убежала.
Пешком
я дошла до Гомеля, может, с полсотни прошла постов, и всюду меня принимали за
белоруску: я раньше была совсем не похожа на еврейку и только теперь, под
старость, когда стала совсем седой, во мне стало проявляться что-то еврейское.
Узнав еврейское горе, я узнала и белорусское...
Я,
как та курица, подумала, что выскочила из горшка, да дорога до порога далека!
Где-то на третий день я попала в облаву и меня отправили как белоруску на
работу в Германию.
И,
как мечтала мама, я увидела мир...
Нас, как рабов, разобрали по домам, и я попала в семью
Бауэров на юг Германии, возле французской границы. Единственным мужчиной на
ферме был внук хозяйки двухлетний Гансик. Всем в доме заправляла старая хозяйка
фрау Берта, а молодая хозяйка, ее невестка, фрау Эльза, занималась ребенком и
кухней. До войны, наверное, ферма была большой, но, когда я попала к ним, в
хозяйстве было всего десять коров.
Фрау
Берта часто говорила:
–
Ты бы видела, что у нас раньше было! А потом началась война, и я без мужчин все
это вытянуть на своих плечах не смогла. И стала резать лучшие молочные породы
на мясо! Ты можешь себе это представить?! С каждой коровой я расставалась, как
с родным человеком! Они мне и сейчас снятся по ночам!
Могла ли я ее понять? Мне тоже снилась по ночам наша
Лыска. Мы купили ее в Пропойске на кирмаше (ярмарке – бел.) за
полгода до войны. И когда убегали из Краснополья, единственное, что мы взяли, –
это ее. И первая бомба на чериковской дороге попала в нашу Лыску. Она не
стонала, только из больших ее глаз текли слезы. Рядом умирали, и никто не думал
о коровьей боли...
И
я тогда не думала. А потом на ферме у фрау Берты я часто вспоминала нашу Лыску
и благодарила Бога, что она у нас была, и благодаря этому я научилась
обращаться с коровами. И благодаря Лыске я понравилась фрау Берте.
–
Тебя любят коровы, значит, ты хороший человек, – сказала она как-то мне и
доверчиво призналась: – Я всех невест Пауля показывала моим коровам! И, знаешь,
только Эльзу они признали!
Я
не буду кривить душой, и фрау Берта, и фрау Эльза относились ко мне хорошо. И
даже по воскресеньям я ужинала вместе с ними, за одним столом.
–
Так делал мой отец, – говорила фрау Берта. – В божий день работник должен
почувствовать отношение хозяина к своему труду!
И,
может быть, до конца войны я прожила бы на ферме у фрау Берты, если бы однажды
фрау Эльза не позвала меня в дом и не попросила постирать ворох детской одежды:
–
Пауль с фронта прислал Гансику, – сказала она и добавила: – Гансик родился,
когда Пауль уже был на фронте, он даже его не видел! Но в каждом письме только
о нем и пишет: он от него без ума! Не может дождаться, когда ему дадут отпуск!
– восторженно сказала она и деловито добавила: – Мой хорошо, не жалей мыла: не
дай Бог, могут быть вши или еще что-нибудь заразное!
И
оставила мне вещи и кусочек мыла. Рубашечки бумазейные и ситцевые, брючки,
кофточки, маечки, трусики – разных размеров и до боли знакомых фасонов: в них
не было европейской изысканности, в них была наша простая удобность. Как
говорил мой папа: «Ну, сделаешь бантик, а потом как с этим бантиком залезть на
дерево? Ребенку надо сшить такой костюмчик, чтобы даже посреди лужи он выглядел
ви а пориц! (как богач –
идиш)». Вещи были не с магазина: где-то протертый карманчик, где-то оторванная
пуговица. В этих вещах смеялись, плакали, жили... Я мыла их, и руки мои
дрожали, и я не могла унять эту дрожь. А потом я вдруг увидела на внутреннем
кармане пиджачка вышитое имя «Хаимка В.» Мама всегда так помечала мои платья,
чтобы в детском саду я не поменялась с кем-нибудь. Вот и мама Хаимки вышила его
имя. Я поняла, чьи это вещи. И поняла, что больше не могу оставаться у фрау
Берты.
Спала я в сарае, в маленькой каморке, никто меня не
охранял, и в ту же ночь я ушла. Не знаю, сообщила фрау Берта о моем побеге или
нет, но я двигалась в основном лесами, сама не заметив, перешла границу и
оказалась во Франции. Было лето, и питалась я ягодами, боясь выйти на дорогу.
Не знаю, что было бы со мной дальше, но где-то через неделю я набрела на маки –
французских партизан. И там встретила Микеле, итальянца из Неаполя. Он попал в
отряд за неделю до меня. У него дорога в отряд была труднее и страшнее, чем
моя... Когда я спрашивала его об этом, он или отмалчивался и переводил разговор
на другую тему, чаще всего вспоминая что-нибудь веселое из довоенной жизни, или
вспоминал Данте, говоря, что девятый круг – это его дорога! И только по ночам
он стонал, что-то кричал и всхлипывал, как ребенок, которому приснилось что-то
страшное. Я знала, что он прошел пытки, лагеря, пять раз бежал и четыре раза
его ловили, а последний побег был за два дня до расстрела... Но никогда он не
рассказывал мне об этом, и, когда однажды наш сын Альберто попросил его
рассказать о войне, Микеле прижал его к себе и тихо сказал:
– Прости, сынок,
но речь об этом вести мне будет тяжело, – он подмигнул сыну и добавил: –
Так сказал великий Данте, войдя в девятый круг! А он был только зритель!
Прости, сынок! – и, как всегда, стал рассказывать про дядюшку Паскуале
очередную веселую историю. И Альберто забывал про свой вопрос, и сейчас, когда
давно уже нет Микеле, он спрашивает меня:
–
Мама, расскажи про папу на войне.
И
что я могу ему рассказать? Когда я его встретила, он был уже очень больной:
пытки и лагеря оставили на нем свое клеймо – он постоянно кашлял, и часто из
горла у него шла кровь. У нас в отряде был врач Пьер, и он мне тогда сказал,
что Микеле отбили печень! Он не жилец! Но мы с Микеле не верили ему: мы любили
друг друга. И когда окончилась война, я поехала с ним в Неаполь. До войны
Микеле учился в университете в Риме, но не успел окончить. Я очень хотела,
чтобы он продолжил учебу, но он отказался:
–
Надо жить, – сказал он. – Может, Пьер прав, и у меня немного времени впереди, я
должен заработать деньги, чтобы ты могла жить здесь дальше без меня!
Я кричала на него за эти слова, но он не слушал меня. И
начал работать. Он был из большой неаполитанской семьи: у него было четверо
братьев и три сестры. За исключением старшего брата Микеле, все они жили в
Неаполе, а старший Риккардо в Америке. Все они держали маленькие пиццерии и,
как Микеле шутил:
–
Неаполитанская пицца – это мы!
И мы тоже открыли маленькую пиццерию и стали потихоньку
обживаться. Росла наша семья. Первой родилась наша дочка Лючия, я дала ей
итальянское имя, но в память о маме. А Альберто назвала в честь папы. И все у
нас вроде бы шло хорошо, но Микеле таял, как льдинка на глазах, мы все видели
это и ничего не могли сделать. Не знаю, кто про это написал Риккардо в Америку,
но он прислал нам письмо.
Микеле,
писал он, я тебя сто лет не видел. Приезжай в Америку, я сделаю для тебя все:
тебя будут лечить лучшие доктора!
И мы поехали. Я не знаю, что за бизнес у Риккардо, но он
помогал нам и деньгами, и связями. Он помог нам открыть пиццерию в Бенсонхерсте
и устроил Микеле в лучший госпиталь. Кстати, когда мы приехали сюда, Бенсонхерст
был чисто итальянский район, а сейчас это почти второй Брайтон: все говорят
по-русски...
Что
вам сказать, доктора не боги, Микеле прожил еще пять лет... И я осталась одна с
двумя маленькими детьми на руках и пиццерией. Но Риккардо не оставил нас и помогал
все время. Да и сейчас.
Если
бы не он, я, наверное, не вытянула б все это – бизнес шел то хорошо, то плохо:
пиццерий здесь хватает, но Риккардо не давал нам сдаваться, и мы выстояли, и
сейчас у нас совсем не плохой бизнес. Когда подросли Лючия и Альберто, Риккардо
приехал ко мне и сказал:
–
Микеле у нас в семье был единственным, кто учился в университете, и пусть
Альберто тоже учится: я буду помогать. А Лючии ты передашь пиццерию, когда она
выйдет замуж, а пока пусть работает с тобой! – и добавил: – Это мой совет, а ты
поступай, как знаешь: я не буду против любого твоего решения!
И
я поступила, как знаю. Я отправила их обоих учиться. Но вышло, как говорил
Риккардо: учеба у Лючии не пошла, она отучилась два года и бросила колледж, а
Альберто окончил и Риккардо взял его к себе в дело. Я как-то спросила у
Альберто, что это у них за дело, но он весь в Микеле, он вместо того, чтобы
рассказать все, как есть, рассказал веселую историю:
–
Мама, – сказал он, – я лучше расскажу тебе историю про дядюшку Паскуале. Его
однажды спросили, кем работает его брат Луиджи. «Он делает деньги!» – ответил
Паскуале. «И как он делает деньги?» – поинтересовались. «Если бы он всем
говорил, как делает деньги, то он бы их уже не делал!» – ответил Паскуале. Так
вот и мы с дядей Риккардо!
Вот
и все, что я от него узнала. А Лючия стала работать со мной в пиццерии, и я вам
скажу, это ей пришлось по душе. Я теперь спокойно оставляю пиццерию на нее, и я
знаю, что Лючия со всем справится не хуже меня.
Лицом Лючия в Микеле, самая настоящая итальянка, а
характером в меня: она хочет, чтобы все делалось по ней, и покричать может, и
поплакать. А Альберто – в наших, вылитый мой папа в молодости, у нас дома
висела его фотография, и я, глядя на Альберта, вижу ее, а вот характером он в
Микеле: добрый, всегда веселый и в тоже время все свои беды держит при себе,
никогда ничего плохого не расскажет: копия Микеле. Только я по глазам вижу, что
не все у него хорошо....
Он
смеется:
– Тебе, мама, надо было работать адвокатом, а не мне: ты
человека насквозь видишь. А у меня так не получается: и иногда плохой мне
кажется хорошим, а хороший плохим! Но мой профессор говорил, что это свойство
не вредит адвокатской практике, а наоборот, помогает! Софизм!
Он у меня любит мудрые словечки. Как и Микеле. Тот тоже вдруг,
ни с того ни с сего, мог разразиться латинской фразой! Он стал бы большим
человеком, если бы не война... А кем бы стала я?
Я,
наверное, никогда бы не узнала, что такое пицца, а, как смеялся Микеле, варила
бы цимес! Я ему часто его готовила. И сейчас Альберто иногда меня просит:
–
Ма, свари папино любимое блюдо.
И еще Альберт любит драники, как я. И прилежно натирает
на терке картошку. И просит меня рассказать о Краснополье, которое он никогда
не видел и, наверное, никогда не увидит...
Figlia[1]
Мой
папа всегда говорил: от судьбы никуда не уйдешь! Она найдет тебя даже под
печкой. И, наверное, так оно и есть. Разве я когда-нибудь думала, что моя Лючия
выйдет замуж за еврея, и притом, из белорусского местечка?! Никогда! И на тебе:
мир перевернулся! В Нью-Йорке евреев больше, чем в Белоруссии. Я думала, что
никогда ни с кем не заговорю уже по-русски: в Италии так оно и было, и здесь
тоже, когда мы приехали... А теперь мне уже не с кем говорить по-итальянски
здесь: все переехали в Бэй-Ридж! Но, слава Богу, любители пиццы не перевелись!
И я вам скажу, среди наших евреев у меня тоже полно клиентов. И я вам скажу
больше, Лючия познакомилась с Майклом в пиццерии: он пришел покупать пиццу. И
через неделю Лючия привела его к нам домой.
–
Мама, говорит, – это Майкл. Он, как и ты, из Белоруссии.
Вы представляете, как застучало мое сердце? Мне как-то
рассказывала мама, как однажды она поехала за какой-то справкой в Могилев:
целый день она среди незнакомых людей, в незнакомом городе, и от этого голова у
нее раскалывалась, и вдруг на улице она увидела краснопольскую аптекаршу Ривку,
с которой до этого двух слов в год не говорила, так она бросилась к ней, как к
самому родному человеку! Ит из унзере Ривке! (Это наша Ривка – идиш). Так и
я! Увидела этого Мишу, и он мне показался лучше всех!
В
этот вечер я Лючии не дала слово вставить: мне было интересно про все
расспросить. Бохер (парень – идиш)
был из Бобруйска. Я когда-то в Краснополье слышала, что это большое еврейское
местечко, а это, оказывается, вообще город! А про мое Краснополье он не слышал.
Откуда мне знать про какое-то Краснополье, как говорил мой папа маме, когда она
начинала расписывать свою краснопольскую родословную. Папа родом был из
Воложина и всегда говорил, что Краснополью до Воложина далеко так же, как воложинской
ешиве до краснопольского хедера.
Что
вам сказать? Я подумала, что этот бохер как раз то, что Лючии надо: наш
еврейский парень, и притом не просто наш, а вообще наш, из наших мест! В общем,
как говорила моя мама, кугул (блюдо бабка –
идиш) из своей печки вкуснее, чем из Двойриной! И я радуюсь! Они встречаются, я
спокойна! Это же не какой-нибудь шейгац! (Нееврейский
парень – идиш)Познакомилась с его родителями, как будто на Советскую улицу в
Краснополье попала: я столько лет там не была, и на тебе – разговариваю
по-русски, как будто только что из дома вышла! И они удивляются: сын
познакомился с итальянкой – и на тебе – ее мама из Краснополья! В общем, что
только не может случиться в Америке, как сказал его папа.
Жду,
когда свадьбу надо будет делать. И дождалась: приходит Лючия как-то поздно
вечером и говорит:
– Мама, мы решили с Майклом снять квартиру.
–
Хорошо, – говорю, а потом до меня дошло, переспрашиваю: – Как квартиру? А
свадьба?!
Объясняет:
– Свадьбу сделаем потом, когда Майкл
университет окончит! – и добавила, чтобы меня успокоить. – Так все делают!
–
Дочечка, – говорю. – Хватит, что я себе свадьбу не делала, но тогда была война,
а сейчас мне очень хотелось, чтобы у тебя была свадьба.
– Ну, если ты хочешь, то сделаем ингейчмент, (помолвка – английский)– соглашается.
Поговорила
я так с ней, а сама до утра заснуть не могла: не понравилось мне это, и я
думаю, Микеле бы это тоже не понравилось. Он мне как-то шутя говорил:
– Ты знаешь, о чем меня спросил дядюшка Паскуале, когда я
с тобой вернулся в Неаполь? Он спросил: «Микеле, вам стелить кровать вместе или
по отдельности?» И добавил: «Я понимаю, у вас любовь, но что мне потом скажут
ваши дети?»
В
общем, ночь я не спала, утром звоню маме Майкла:
–
Синьора Хана, – говорю, – вы слышали новость: дети наши собираются снять апартмент?! (жилье – английский) И жить вместе без
свадьбы?!
–
Розочка, – говорит, – что вы так разволновались. Это я им нашла квартиру! Прямо
возле нас! Чудесная квартирка: солнечная сторона, четвертый этаж, с лифтом!
–
Ханочка, – перебила я ее, – я не говорю про квартиру, я говорю про свадьбу.
–
Куда с этим спешить, – спокойно мне отвечает Хана, – пусть Майкл сначала
окончит колледж, и тогда сделаем свадьбу.
–
А разве это друг от друга зависит? – спрашиваю.
И
она мне начала объяснять, как будто я с Луны свалилась: про какие-то гранты для
учебы начала говорить, про то, что все так делают, и, вообще, разве роспись –
это главное: они с мужем, когда приехали сюда, развелись не взаправду, конечно,
а для бумаг, и вот теперь, слава Богу, получают каждый полный асисай.
–
Какой асисай? – не понимаю. – Лючия сказала, что у вас магазин.
–
Ну, да, – говорит. – Но он записан на племянника!
Она
мне все это говорила полчаса, и я, в конце концов, поняла, что, прожив в
Америке три десятка лет, не разбираюсь в американской жизни, а они приехали без
года неделя и уже все знают.
–
Мой Натан был там большим человеком, – говорит. – Он в жизни разбирается.
И, поверьте, Розочка, я за ним жизнь прожила, нашим детям такую бы! И если он сказал,
что это для Миши хорошо, значит, хорошо! Ему сам секретарь нашего райкома
говорил: «Миша, у тебя еврейская голова!»
И
я подумала: кто его знает, может, так и надо, я живу по старым понятиям, а мир
давно уже повернулся с головы на ноги. Как говорила моя мама, если все стоят на
голове, то одному устоять на ногах трудно! И дети вроде бы любят друг друга:
пусть будет по-ихнему!
И
стали они жить вместе.
И
вот где-то через полгода приходит ко мне Риккардо и говорит:
–
Розалия, ты знаешь, что наша Лючия у твоего любимого зятя не первая жена?
–
Что ты говоришь? – за голову хватаюсь.
–
Я решил узнать, что у меня за новые родственники, – поясняет. – И узнаю, что
года два назад они оформляли документы на вызов какой-то Виктории. И в
документах записали, что она жена твоего любимого Майкла!
–
Не может быть?! – говорю. – Может, эта Виктория их дальняя родственница, и они
по-иному не могли ее вызвать, – соображаю. – Натан Львович привык обходить
законы.
–
Может, – говорит. – Но тогда зачем они потом отозвали свой вызов! Как раз
тогда, когда Майкл познакомился с Лючией!
–
Рикки, – говорю, – а ты знаешь, что у Лючии должен быть ребенок?
– Ох, Розалия, Розалия, – говорит он, – я тебе всегда
говорил, во всем советуйся со мной! Как говорил наш дядя Паскуале, пока спагетти
еще не опущены в воду, ты можешь думать, что из них приготовить, но когда они
уже в воде, то тебе остается только решать, кушать их или нет. И это осталось
нам. Я думаю, надо послать человека туда, в ихний Бобруйск, и узнать самим
истину, а потом будем принимать решение!
–
Не надо в это дело вмешивать чужого человека, – сказала я. – Пусть поедет
Альберто.
–
Ты права, – согласился Риккардо. – Заодно посмотрит на родину мамы!
И Альберто поехал. А я стала ждать. Я ничего не сказала
Лючии, чего без причины беспокоить девочку, но стала передумывать всю эту
историю с самого начала: и с одной стороны посмотрю, и с другой, как говорил
мой папа: пушинку и ту попробую на ощупь, не дырка ли в костюме.
В
общем, как у нас говорили в Краснополье: сижу на иголках. Наконец, дождалась,
звонит Альбертик:
–
Ну что? – спрашиваю.
–
Все так и есть, – говорит.
–
Что так и есть? – переспрашиваю.
–
Все правда, – отвечает.
–
Так говори! – прошу.
– Приеду – все расскажу, – отвечает и кладет
трубку.
И
вы думаете, что я после этого могу сидеть спокойно. Нет, конечно. Вскочила и
побежала к родителям Майкла.
– Что это такое? – говорю. – Разве так себя
ведут?
И
начинаю их расспрашивать про эту историю. И что вы думаете, они мне сказали?
–
Это вам Соня, наверное, рассказала, – Хана говорит. – Она всегда старается
вылить на нас ведро грязи! И вам скажет, что было и что не было! И это
двоюродная сестра?!
–
Никакой я Сони не знаю, – говорю. – А вы мне скажите все, как есть: ваш сын
женат или нет?
–
Ой, – говорит. – Эта история выеденного яйца не стоит! Я вам все расскажу.
Нашему дурачку в тот же год, что мы сюда приехали, пришлось по делу съездить
назад в Бобруйск, какие-то дела у него были с аттестатом за школу. И что
получилось? Его там окрутила шикса, (нееврейская
девушка – идиш) и он записался с ней. Приезжает домой и сообщает нам эту
новость! И показывает свой белорусский паспорт! Мы взяли и порвали его! Слава
Богу, у нас уже есть американский паспорт. И я вам скажу, он через полгода сам
понял, что был дурак! Нам надо невестка-гойка!? (нееврейка –
идиш)
– Там вопрос улажен, – добавил Натан. –
Ей нужны были от нас доллары, и мы ей их дали! Вопрос закрыт!
– Может, для вас и закрыт, – говорю, – но не
для нас! Так в еврейских семьях не поступают! Он мог все рассказать Лючии
сразу, и мы бы подумали, а сейчас я даже думать не хочу!
–
А думать надо, – Натан говорит. – Вы знаете, у вашей дочки будет ребенок!
– Знаю, – говорю. – Сами вырастим!
Поругалась я с ними, с три короба наговорила всего и, хлопнув
дверью, ушла. А дома наплакалась и только потом все Лючии рассказала.
– Ничего, мама, – говорит. – Мое счастье еще
найдется!
У
нее мой характер: в тот же день она забрала все свои вещи и вернулась ко мне, а
вечером пошла работать в пиццерию.
А
этот мамзул (хулиган –идиш)
не пришел посмотреть даже на родную дочку! И я вам скажу честно, мне от этого
было даже лучше: к чему вспоминать старое? А Лючия потом вышла замуж за ешивабохера. (учащийся ешивы – религиозного учебного
заведения)
–
А я другим парням не верю! – пояснила она мне свой выбор.
И
может, она права. И вам скажу, Авнер от нее без ума! Он мне сказал:
–
Мама Роза, я всю жизнь мечтал взять в жены итальянку, но чтобы она была
еврейка! Моя мама мне говорила, что я а
мишугенер (сумашедший – идиш): такое не бывает! А я сказал, что если Бог
захочет, то он мне такое счастье найдет! И я встретил Лючию!
И
сейчас они открыли кошерную пиццерию в Боро Парке, и бизнес у них идет, я вам
скажу, чтобы не сглазить, совсем неплохо! И моя Лючия все успевает: и внучат
мне приносить, и за пиццерией смотреть!
–
Лючия, у тебя настоящая итальянская семья, – смеется Рикки. – Как у твоей
итальянской бабушки, у тебя шестеро детей!
–
И как у еврейской бабушки тоже, – добавляет Авнер, – но, может, мы еще их перегоним!
Вот
такая история с Лючией, но я вам скажу, от этой истории берет начало история с
Альберто. Как говорил мой папа, у нас все не как у людей: если солнце греет, то
оно греет улицу, а если идет дождь, то он льет с потолка.
Figlio[2]
Извините,
мистер Баскин, что я вас беспокою. Мама Роза просила меня дорассказать вам
историю, которую она начала вам рассказывать. Я дала ей слово, что все вам
расскажу, и вот звоню. Она говорила:
–
Ты же была в Краснополье, и ему интересно знать, как там. Он ведь, как и я,
краснопольский.
Я не знаю, говорила ли мама про меня, но я Виктория.
Да-да! Та самая, из Бобруйска. Только я не из Бобруйска, а из деревни.
Километров десять от города. И папа, и мама у меня всю жизнь проработали в
колхозе, а вот дали мне такое имя. Это папа придумал. Всю войну он прошел
рядовым, артиллеристом. И на Эльбе он впервые встретил американцев. И за те
несколько дней, что армии стояли рядом, он подружился с высоким, как папа
говорит по-белорусски – цыбатым, американцем Джимом. И так получилось, что Джим
спас ему жизнь. Как отец рассказывал, стояли они у какого-то дома,
разговаривали и рядом стоял парень, тоже из их взвода, и тоже разговаривал с
Джимом. И они показывали друг другу оружие. И кто знает, как получилось, но
папин земляк вынул чеку из гранаты и от неожиданности уронил гранату, и она
покатилась к папиным ногам. И тогда Джим в доли секунды принял решение и накрыл
собою гранату. Он погиб, а папу ранило. И папа всегда говорил: если у меня
родился бы сын, я назвал бы его Джимом, а так как вышла дочка, то я назвал тебя
Викторией.
–
Потому что Джим говорил: Виктория! Это по-нашему Победа!
И
еще папа очень хотел, чтобы я выучила английский.
– Есть у меня к тебе, дочка, вопросик, –
добавлял он к своим мечтам о моем английском, – но я тебе его скажу потом,
когда будешь шпрехать по-английски!
У
нас в школе учили немецкий, а потом я поступила в медицинский институт, и все
время папа не мог задать мне свои таинственный вопрос. И тогда я сама взяла в
институте английский и хотя в первое время помучилась: и неуды были, и бросать
его хотела, но осилила, в конце концов, и даже полюбила, и, когда предстала
перед папой во всеоружии, он сказал:
–
Дочка, когда я разговаривал с этим американцем, я говорил ему, показывая на
себя: «Белорус!», а он мне говорил: «Американ Джуиш!» Так вот мне интересно,
что это такое.
И
я ему перевела. Он долго молчал, а потом сказал:
–
А ты знаешь, я так и думал. Он рыжий был, как солнышко. И добрый, как солнышко!
И
когда я подружилась с Мишей, он был очень рад.
–
Хоть не американский еврей, но еврей из Америки, – шутил он.
Когда
я записалась с Мишей, папа был уже очень больной, но очень радовался, что я
попаду в Америку.
– Там найдешь родителей Джима и расскажешь им
про сына, – говорил он, будто Америка не больше нашей деревни.
А
от Миши сначала были письма, а потом перестали приходить, но я, чтобы дома
никого не расстраивать, ничего не говорила. А потом папа умер, и родился у меня
сын, и я назвала его Джимом. В сельсовете очень удивились этому имени, и я им
рассказала про папу. Сначала я работала в Бобруйске, а когда родился Джими, я
переехала к маме в деревню.
И
вот как-то после работы зашла за Джимом в детский сад, а воспитательница, наша
соседка, говорит:
–
К вам американец приехал!
Она
сказала, а у меня от неожиданности комок в горле застрял: Миша за нами приехал!
Взяла на руки сына и побежала.
–
Папа за нами приехал! – говорю.
Вбежала
в дом и замерла на пороге: сидит незнакомый парень и разговаривает с мамой, как
немой, руками! А Джими соскочил с моих рук и бросился к незнакомцу:
–
Папа!
И
Альберто взял его на руки, улыбнувшись, сказал:
–
Найс бой! (милый мальчик –
английский)
А потом он уговорил меня поехать в Америку.
–
Вам надо развестись, – сказал он, – между небом и землей нельзя жить.
И
добавил:
–
Вы должны помочь моей сестре!
– А как я поеду? – растерялась я. – Поехать от
нас в Америку не просто. Миша не мог оформить визу за целый год?!
–
Это проблема, – согласился он. – Но я думаю, мой дядя Рикки поможет!
И
он пошел звонить в Америку на нашу деревенскую почту: у нас телефона дома нет.
На
нашей почте даже нет телефонной будки, как в городе, и звонят просто от
телефонистки. Я вышла на улицу, чтобы не слушать чужой разговор. Но Альберто
так громко кричал в трубку, наверное, была плохая связь, что некоторые слова
можно было разобрать даже на улице. И тогда я услышала, как он говорил дяде:
– Пойми, я ее люблю! С первого взгляда!
А
знакомы мы были с ним только неделю.
И
я поехала с ним. Сначала в Краснополье.
–
Я должен увидеть мамин дом, – сказал он. – Май
мазерс гомлэнд!
И
вы знаете, мы его нашли. Ему мама описала его так, что мы сразу узнали его. В
палисаднике все так же высилась огромная береза, закрывая своей кроной крышу
дома, а рядом цвела сирень, все так же звеня листвой.
– Это мама говорила, что она звенит, – сказал Альберто. –
И я слышу этот звон. А ты?
–
И я, – сказала я.
А
потом он сказал:
–
А можно мне с березы сорвать лист? Я хочу привести его маме.
–
Можно, – сказала я.
–
Это частная собственность, – вдруг заметил он. – Я могу заплатить.
–
Не надо, – сказала я, – это ведь деревня твоей мамы.
И еще мы долго бродили по краснопольскому кладбищу. Он
искал следы своих предков. Кладбище было заброшенным, неухоженным, и среди
камней я не нашла знакомую фамилию. И мы просто положили цветы между могил...
А потом я приехала в Нью-Йорк. И прямо с порога, не дав
мне сказать слова, Альберто сказал:
– Мама, я ее люблю!
А
вечером, когда я с мамой Розой осталась одна, я сказала:
–
Ваш сын очень хороший человек, очень добрый, но ему надо другую жену. Для чего
ему белоруска и еще с ребенком? Я приехала сюда только для того, чтобы
развестись с мужем. И сразу уеду.
И
тогда мама Роза сказала мне слова, которые я буду помнить всю жизнь:
– Дочка, я тебе скажу, что сказал мне дядюшка
Паскуале, когда Микеле привез меня в Неаполь. У всех Бог один! И самый большой
грех перед Богом у людей – это то, что созданные, как братья, они разошлись по
миру, как враги! И только Любовь может опять собрать вместе человеческий род!
Евреев, итальянцев, белорусов! Всех! – и добавила: – Я тебя только прошу об
одном: люби его так, как он тебя!
А потом был день рождения мамы Розы, и собралась вся наша
большая семья. Этот день я тоже никогда не забуду. Мы крутились на кухне, а
дети гуляли на дворе. Мы готовили блюда на любой вкус: Лючия – еврейские, я –
белорусские, а мама Роза – итальянские. И вдруг я услышала крик Джимми:
–
Бабушка, мама, бусел да нас прыляцеў! (аист к нам
прилетел – бел.)
Он,
хоть уже и два года в Америке, а часто вдруг начинает говорить по-белорусски.
–
Откуда здесь аист?! – удивилась мама Роза. – Аистов в Америке не бывает. Но
надо посмотреть, какую птицу он принял за аиста.
И
мы вышли во двор.
И
замерли. Раскинув огромные крылья, аист делал круги над домом, опускаясь все
ниже и ниже.
– Готуню (боженька –
идиш), – воскликнула мама Роза. – Я видела аиста последний раз восемьдесят лет
назад. Я была а клейне мейделе (маленькая
девочка – идиш) и всегда вместе со всеми детьми бежала за аистом, когда он
пролетал над Краснопольем, и кричала: «Бусел, бусел, слаўны птах, прыпынiся,
сядзь на дах!» – она повернулась ко мне и сказала:
–
Видишь, дочка, я еще что-то помню! У нас говорили, что если аист сядет на крышу
дома – это принесет в дом счастье. Мой папа на березе ставил колесо, чтобы
прилетел аист, но он никогда не прилетал к нам...
Она
посмотрела влажными глазами на птицу и поманила ее. И аист, сделав круг над ее
головой, плавно опустился на крышу маминого дома.
–
Вот и пришло мое счастье, – сказала мама и вытерла слезу.
...В
ту же ночь она ушла на небо. Тихо, спокойно, без боли, во сне. Как святая.