Династия трубачей
Григорий Игудин





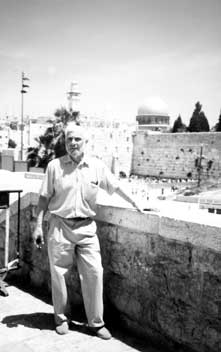
Я, Игудин Григорий,
родился в конце 1942 года в эвакуации в Башкирии, куда военное лихолетье
занесло мою маму с тремя детьми и бабушку осенью 1941 года.
До войны наша семья жила в Белоруссии,
в небольшом местечке Пропойск (ныне г. Славгород) Могилевской области. Наверное, половину его
пятитысячного населения составляли евреи.
22 июня 1941 года мой отец,
старший лейтенант артиллерии Игудин Михаил Абрамович, служа в военном гарнизоне
Бобруйска, сразу оказался в гуще страшных событий первых дней войны. Воевать
ему пришлось первые полгода, потом он был комиссован и в 1942 году
присоединился в Башкирии к семье.
Вернулась наша семья из
эвакуации в освобожденный Пропойск
в 1945 году.
Последний
день кузнеца Плоткина
В светлый праздник Великой
Победы 9 мая во многих семьях помянули павших за Отечество, выразили благодарность
живым за их мужество и героизм. Но фашистам оказывали сопротивление не только
на поле боя.
Мне не довелось увидеть живым
моего дедушку.
Плоткин Лейзер-Шмае – отец моей
матери – был кузнецом, имел в Пропойске свою кузницу.
Его знали и уважали все в округе и за отменное мастерство, и за безотказность,
за справедливость в житейских ситуациях. Он в строгости и послушании растил
четверых детей.
Лейзер-Шмае был мастером на все руки, мог даже отремонтировать
часы (в то время это было большим искусством), а старшей дочери (моей матери) Ривке своими руками сделал трехколесный велосипед...
…Немцы приближались к Пропойску очень быстро. Отступающие советские войска,
беженцы, сплошным потоком шли через Пропойск по
дороге Брест–Москва мимо кузницы Лейзера-Шмае. Он
помогал и военным и гражданским как мог и денег ни с кого не брал.
От беженцев уже просачивались
слухи о зверствах фашистов, но кузнец не верил в это. Когда настало время
эвакуироваться семье, сам он уезжать отказался. Говорил: “Я немцам ничего
плохого не сделал, и они мне, старому, ничего не сделают. А на кого я оставлю
кузницу, дом?”
12 июля 1941 года его жена
Стера собрала дочь Риву и внучек Раю (14 лет), Фиру (7 лет), внука Володю (6 месяцев) и успела с последней
автомашиной уехать за
Фашисты вошли в Пропойск 13 июля 1941 года. Городок был полностью разрушен.
Установив свою власть, немцы
занялись “еврейским вопросом”. В течение ближайших трех месяцев около 170
оставшихся евреев – стариков, детей, женщин – были вывезены за город и
расстреляны в противотанковом рву. Почти полный список всех убитых после войны
был напечатан в местной газете “Ленинское слово”. Этот экземпляр я храню у себя
долгие годы.
Моего деда Плоткина
пока оставили в живых как мастерового человека. Но фашисты не получили от
кузнеца того, на что рассчитывали...
Самым большим зданием в Пропойске была больница. После взрыва авиабомбы она
осталась без крыши. Собрав около больницы оставшееся в Пропойске
население, немецкий офицер спросил: “Здесь будет штаб, кто может сделать
крышу?”. Кто-то из толпы показал на Лейзера-Шмае.
Офицер, играя стеком, приказал ему взять несколько человек и приступить к
работе.
Старый кузнец, зная судьбу пропойских евреев, ответил, что делать ничего не будет. И
тут же получил удар стеком по лицу. Дед набрал воздуха – и плевок угодил в морду офицера... Тот настолько рассвирепел, что не смог
сразу расстегнуть кобуру. Здесь же, на глазах у жителей Пропойска,
фашист выпустил всю обойму в Плоткина Лейзера-Шмае.
Историю гибели моего деда Плоткина Лейзера-Шмае подробно
рассказали моей матери Игудиной Риве Лейзеровне очевидцы этой трагедии. Я ее передаю так, как
мне об этом рассказала моя мама.
Мой покойный дядя Плоткин Наум Лейзерович, проживавший в 50-х годах в
Ленинграде, несколько лет добивался, чтобы местные власти поставили, хотя бы
небольшой памятник расстрелянным евреям. Его установили с надписью: “Вечная
память жертвам, погибшим от рук гитлеровских оккупантов в количестве 150–170
человек 25 октября 1941 года”.
Несколько лет назад памятник
был снесен. На этом месте проложили улицу имени Рокоссовского. Она прошла по
человеческим костям. Хотел ли маршал, чтобы когда-нибудь его именем назвали
такую улицу?
Мой дядя Плоткин
Лев Лейзерович был призван в Красную Армию 22 июня 1941 года из Могилева и
вскоре пропал без вести при обороне Ленинграда. Его жена Фира
и годовалая дочь были заживо сожжены в сарае вместе с жителями в местечке Краснополье Могилевской области.
Мой дядя по отцовской линии
Игудин Исаак Абрамович прошел финскую и Великую Отечественную войны, награжден
многими орденами и медалями. Умер в 1953 году.
Родственники по отцовской линии
Игудины Цира, Малка, Элька,
Люба с детьми были расстреляны в Пропойске.
Всего в нашей семье во время Второй мировой войны были расстреляны и погибли на фронтах
13 человек. Светлая им память...
С трубою мы объездили
полмира
Мой отец, еще до войны, служил
в Бобруйске, и там он впервые услышал военный духовой оркестр. Увлекся духовой
музыкой и там же, на службе, стал для себя учиться играть на трубе. А после
войны, в 1952 году, работая инструктором райкома партии, получил специальное
задание – привезти для райцентра комплект духовых музыкальных инструментов из
Ленинграда. Прибыв в Ленинград, в приемной директора завода он увидел
бесконечную очередь таких же посланцев со всего Советского Союза.
Невыполнение партийного задания
в то время грозило самыми тяжелыми последствиями. Но все-таки через месяц
хождений, уговоров ему удалось достать музыкальные инструменты! Его же райком
партии и назначил первым руководителем Славгородского
духового оркестра на общественных началах.
В десятилетнем возрасте я был
отцом приобщен к духовой музыке, к трубе, которую очень полюбил.
В 1960 году окончил Могилевское музучилище с отличием
по классу трубы. Через год поступил учиться в Кишиневскую консерваторию. Со
второго курса был призван в Советскую Армию. Попал в Севастополь на
Черноморский Флот. Служил в разных боевых частях и в начале третьего года
срочной службы был приглашен для прослушивания в Ансамбль песни и пляски Черноморского
Флота.
Ансамблем в то время руководил
народный артист Украины, заслуженный деятель искусств РСФСР композитор Борис
Валентинович Боголепов, известный музыкант,
талантливый дирижер. Он создал ансамблю прочную славу одного из лучших военных
художественных коллективов СССР.
Коллектив ансамбля в это время
готовился к большим четырехмесячным гастролям в Англии, Франции и Швейцарии,
что было очень ответственным, необычным и даже политическим событием в жизни
Вооруженных Сил СССР. До этого времени изредка в капиталистические страны
выезжал только знаменитый Дважды Краснознаменный
Ансамбль песни и пляски Советской Армии им. Александрова.
Очень хотелось попасть в
знаменитый коллектив. Прослушивание прошло быстро, благополучно для меня, и вот
я артист-матрос срочной службы в Ансамбле Черноморского Флота.
Примерно через месяц коллектив
должен был выезжать в Москву и оттуда – самолетом в Лондон. Работы много, нужно
было за короткое время войти в программу (а это не менее 50 произведений).
Снаряжало, готовило и отправляло
нас в поездку все Политическое управление флота под руководством Главного
Политуправления Вооруженных Сил СССР.
Кроме творческого процесса,
которым очень скрупулезно и тонко руководил Боголепов,
спецслужбы проводили с коллективом и с каждым в отдельности беседы,
инструктажи, лекции. Каждому из нас были выданы брошюры “100 вопросов и ответов
для советских граждан, выезжающих за рубеж”. Очень интересная книжонка! Были
сформированы четверки и пятерки артистов, и в каждой был старший – член партии.
Финальной точкой подготовки
была наша экипировка. На сцене мы все были в концертной форме – матросы, а вне
сцены должны быть цивильными, поэтому нас отвели на флотский склад и выдали
светлые плащи и шляпы или береты – все китайского производства.
В то время по документам в
ансамбле евреев не было. Как потом через много лет оказалось, это было не
совсем так. Пять человек были евреями, но тщательно скрывали свое
происхождение, и осуждать этих людей, по понятным причинам, сегодня не за что.
31 марта 1965 года под звуки
“Прощания славянки” ансамбль поездом уехал из Севастополя в Москву. В столице
мы были два дня (приглашены на двадцатиминутный прием к министру культуры СССР
В. Фурцевой, к начальнику главного политического управления ВМФ адмиралу В.
Гришанову) и
3 апреля вылетели в Лондон.
5 апреля был первый концерт для
английской публики. Большой, красивый зал переполнен, городская власть, пресса.
Весь город, ждал этого концерта, и они не разочаровались. В армиях западных
стран нет военных ансамблей, поэтому для них матросы или солдаты на сцене – это
экзотика. А матросов во всем мире воспринимают больше как романтиков, чем
воинов.
На одном из концертов в
Бристоле на сцену выбежали двое молодых парней и стали со сцены выкрикивать
какие-то слова, возбужденно размахивая руками. Как потом оказалось, они кричали
в зал: “Свободу советским евреям!”. Быстро вмешалась полиция, и концерт
продолжился. Должен сказать, что реакция зала на это событие была довольно
спокойной.
Когда, конечно, в составе
пятерки, оказался впервые в центре Бристоля, я был ошеломлен! Такого обилия
магазинов, товаров, продуктов, такой чистоты и доброжелательности я никак не
ожидал увидеть, особенно после кэгэбэшной накачки! Я
не мог в это поверить, мне казалось, что и здесь все подстроено только потому,
что мы, советские люди, приехали сюда. Такие же чувства испытывали и мои
товарищи.
В Лионе (Франция) после одного
из концертов весь коллектив был приглашен на ужин в загородный ресторан,
принадлежавший внуку адмирала Лазарева М. П. Александру. Было много изысканных
вин и национальных блюд французской и русской кухни. Александр Лазарев сказал
очень трогательную и патриотическую речь о русском флоте, Севастополе и о своем
прославленном дедушке.
2 мая 1965 года коллектив
участвовал в необычной для того времени акции. На палубе английского фрегата
“Виктория”, стоящего на вечном якоре, как памятник знаменитому английскому
адмиралу Нельсону в г. Портсмут, мы, ансамбль советских моряков, представляли
Англию в первом мировом концерте, транслируемым через искусственный спутник,
где каждой стране было выделено по 20 минут. Спутник, пролетая над территорией
данной страны, захватывал сигнал и транслировал его на весь мир. Не знаю, чья
это была идея, но почему-то Англию представляли черноморцы Боголепова!
Москва была в восторге!!!
Драматично сложилась судьба
нашего руководителя БоголеповаБ.В. В июле 1975 года
неожиданно для всего коллектива подполковника Боголепова
снимают с должности начальника ансамбля и отправляют на пенсию. Оказывается,
некоторое время назад его сын, Юрий, студент одного из московских институтов,
женился на еврейке. Они добивались выезда в Израиль. Боголепов
долго не давал согласия на выезд сыну, но Юра был настойчив и, в конце концов,
согласие отец дал. Сразу же последовала отставка. В Политуправлении флота Боголепову заявили:
“Не смог воспитать сына – идеологический коллектив не доверим”.
После этого Боголепову
даже не разрешали руководить художественной самодеятельностью совхоза, нигде не
упоминали имя, запретили исполнение его песен, а самое обидное – сняли звучание
курантов его самой известной песни-реквиема “Сапун-гора” на святом месте –
Сапун-горе.
Умер Борис Валентинович Боголепов в 1994 году в один день со своей женой Антониной
Петровной, и похоронили их вместе в Севастополе. Но еще при жизни под давлением
общественности Севастополя доброе имя известного человека было восстановлено, и
сейчас на доме, где жил Боголепов, висит в его честь
мемориальная доска, куранты на Сапун-горе играют его песню-реквием!
В составе ансамбля мне
посчастливилось побывать в тридцати странах мира: Англии,
Франции, Швейцарии, Бельгии, Голландии, Португалии, Германии, Дании,
Люксембурге и многих других.
В моей трудовой книжке за всю
жизнь две записи: принят на работу в музыкальную школу
Славгорода и уволен с работы в связи с призывом в
Советскую Армию.
Я горжусь тем, что от моего
отца пошла родословная трубачей. Отец был самодеятельным музыкантом, я –
профессиональный трубач, мой сын Игудин Михаил – трубач штабного оркестра
Черноморского флота, племянник Василевский Александр – трубач Главного
полицейского оркестра Израиля.
Сорок пять лет я прожил в
Севастополе, но своей Родиной всегда считал и считаю Беларусь!
Григорий
Игудин,
Севастополь
Может быть, кто-нибудь из
моих однокурсников прочтет эту статью и отзовется.
Мой адрес:
Игудину Г. М.,
пр. Острякова,
д. 107, кв. 31,
г. Севастополь,
99040, Украина